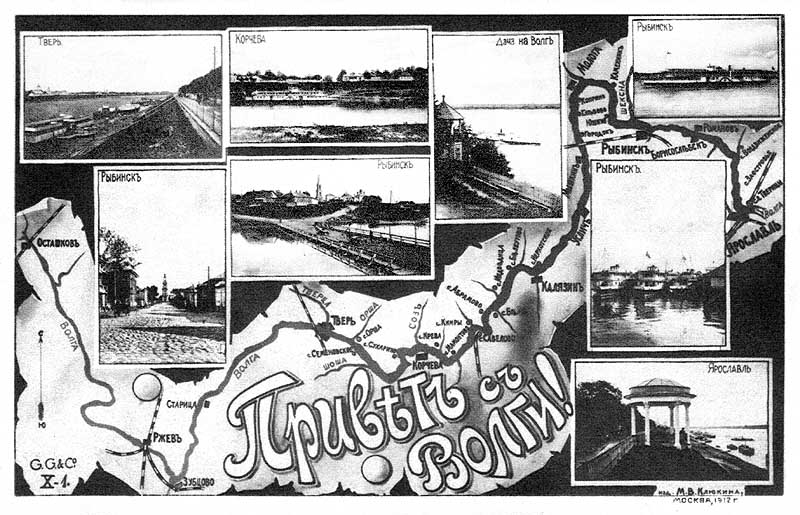|
* *
* Через месяц первую Государственную думу разогнали, но многие депутаты уехали в Финляндию, в Выборг, где составили воззвание к народу, и оно получило название «выборгское». Нам его прислали с тем же Богдановым из Нижнего Новгорода, его размножили на гектографе, печатали его за рекой, во время рыбной ловли, так как за нашей квартирой стали следить. Был даже поставлен на этой площади пост полицейского, потому что здесь жили четыре «подозрительных» личности – анархист Крылов Леонид, мой брат Андрей Чанышев, Макеев Сергей Александрович, работавший ювелиром-чеканщиком, как его звали, и переплетчик Умнов также жил недалеко.
Макеев Сергей Александрович, активный елатомский революционер.
До сих пор в Елатьме сохранился домик, в котором на улице Спартак (бывшая ул.Архангельская) жил С.А.Макеев.
Но только этого городового отвлекала, или, вернее, завлекала кухарка, жившая через дом от нас и работавшая домработницей у старухи Кузьминой. Он часто проводил время у своей «пассии». Однажды мы получили условную телеграмму из Тамбова об аресте моего двоюродного брата Аркадия Сперанского, ученика Елатомской гимназии: «Граф попал в больницу» (его прозвали «граф», потому что при Александре II был граф Сперанский, который составил проект конституции). Сразу пришлось убирать библиотеку и нелегальную литературу. Книги, часть самых подозрительных, в резиновых мешках зарыли в саду на дорожке, а дорожку посыпали песком, поскольку рядом были клумбы и цветы. Печатную массу гектографа разрезали на мелкие куски, как это делают, когда собираются ее переварить, и, упакованную в резиновом мешке также зарыли в песке на другом берегу реки. Еще в это время из Рязани пароходом, на котором был капитаном Богданов, присланы были револьверы для Сасовской боевой дружины, но так как никто не пришел получать их, то оружие сдали нам. Мы решили послать его с ямщиком Васькой Карлинкиным, так как он часто ездил в Сасово. Револьверы, завернув в тряпку и смазав их вазелином, мы зарыли в песке на берегу, когда ездили ловить рыбу. Словом, готовились не напрасно. 15 июня рано утром пожаловали «гости». Это было в субботу, в базарный день. Я, Андрей и Борис спали на сушилах, только сестры в доме. Залаяла цепная собака «Дружок», которую мы спускали на ночь. Она не любила нищих, почтальонов и полицейских, наверное, потому, что у них что-то висело через плечо, и всегда рвалась с цепи, когда они заходили во двор. Ворота были заперты на задвижной замок, чтобы не могли войти внезапно. Один из полицейских полез было через забор, но «Дружок» схватил его зубами за ногу и стащил сапог. Тогда они начали стучать в окно. Сестра Нона, прежде чем отпирать, прошла к нам на сушила и спросила, все ли в порядке. Мы сказали, что все, но старший брат Андрей вдруг вспомнил, что за иконой висит на гвоздике шифрованное письмо, и сказал, чтобы сестра на всякий случай спрятала его в лифчик. Она вошла в дом, убрала письмо, привела собаку к конуре и привязала, а потом только отперла ворота. Человек десять полицейских с жандармом, помощником исправника Мавило, и во главе с Виктором Бакулиным ввалились во двор. А поскольку последний ухаживал за сестрой, она горько пошутила: – Это ты так рано на свидание пришел ко мне? Он покраснел и сказал: – Служба... Где братья? – На сушилах спят. Тогда он бросился на сушила по лестнице, а, подходя к нам, провалился между жердей и угодил в открытый погреб, прямо в снег. Вот было смеху над ним, когда он кричал: «Выпустите меня!!!», и его доставали из погреба, потому что он сильно ушиб ноги. А Андрюша ему сказал: – Вот, Виктор, всегда так: поспешишь – людей насмешишь! В доме, когда мы, одевшись, спустились вниз, помощник исправника предъявил нам ордер от Тамбовского жандармского управления на обыск и начал нас, мужчин, обыскивать, сказав, что если у нас есть оружие, то лучше его сдать, но у нас его не было. В щелочки стен, в трещины бревен мы рассовали записочки вроде «Мы вас ждали, но вы опоздали» или с нарисованным кукишем. Некоторых простодушных полицейских это забавляло, и они смеялись, и начальство на них «цыкало», а особенно усердствовал обозлившийся Виктор и не давал нам встать с места. Начали перерывать сундуки с учебниками, их было три. А урядник Носков из Алферьевской волости, метивший в надзиратели, занялся библиотекой. И вот был казус: попалась ему книга революционера Кропоткина «Крепость» о том, как он сидел в Петропавловской крепости и бежал оттуда. Он прочел: «Куропаткин», и говорит другому городовому, искавшему с ним крамолу: «Вот господин Куропаткин пишет, как строить крепость». Потом попалась книга «Гнет машины» о том, как рабочего угнетает машина-капитал, а он прочел и сказал: «Гнет – это тяжелый пресс, а еще машины тут перечисляются, – хотя не было ни одного чертежа, – Этими книгами их папаша интересуется, он человек любознательный». Стали перебирать газеты, их было много «Русское слово», «Наша жизнь», «Наше слово», «Новая жизнь», «Правда», и между ними мы рассовали черносотенные газеты «Русское знамя», «Голос Михаила архангела» и «Заря», на что они очень удивились: «Как это к вам газеты такие попали?». А мы им: «Они на обертку годятся!». На это они обиделись.
Попросили открыть письменный стол отца (в это время он был в отъезде), а мать была на родине в Шацке у своих сестер. Мы отказались открыть, сказав, что отец ключи берет с собой, так как там есть важные бумаги, как то: векселя, доверенности и купчие крепости. Даже если бы были ключи, мы все равно не открыли бы, потому что при просмотре бумаг что-то из документов может пропасть, а отцу потом отвечать. Тогда Бакулин приказал опечатать ящики до приезда отца, и мы не возражали, так как ничего туда и не клали, ведь ключи при обыске все равно найдут. Перебирали все, щупали подушки и матрацы, вынимали из рамки зеркало, вывинчивали ножки стульев, кресел, дивана, простукивали стены – нет ли звуков пустоты, поднимали половицы, на чердаке всю землю перерыли, заглядывали в трубы, отдушины вентиляции, даже лазили под печку в кухне, в подполье, а в погребе в снег тыкали штыками и шашками, вилами – в навозную кучу, искали везде, даже в собачьей конуре, после того, как мы отвели собаку, но так ничего и не нашли. Обыск, начатый в три часа ночи длился девять часов и закончился в полдень. По окончании обыска при подписании протокола братьям предъявили ордер на их арест на основании положения об усиленной охране и, продержав некоторое время в тюрьме, выпустили. На основании положения об усиленной охране разрешалось арестовывать каждого «подозрительного» гражданина на срок от двух недель до одного месяца, а потом освобождать, не предъявив никакого обвинения. Так, брата Бориса выпустили через две недели, а старшего брата Андрея – через месяц, приняв, видимо, во внимание, что он сидел до этого в 1905 году, а потом провожал сасовских железнодорожников на пристань.
Борис Иванович Чанышев
Потом был прислан приговор Сасовской судебной палаты: за агитацию среди крестьян и распространение комментария к манифесту 17 октября 1905 года – трехмесячное заключение в тюрьме на крепостном режиме в одиночной камере. Такой режим был в Касимовской тюрьме, куда Андрея и отправили, чтобы не имел какие-либо сообщения с родными. В октябре он отсидел и был выслан за предел Тамбовской губернии на три года. Он избрал Нижний Новгород, а потом через год перевелся в Рязанскую губернию, к которой принадлежал и Касимов, а значит, не в свою губернию. Там он подрабатывал репетиторством слабых учеников технического училища. Из Касимова брат частенько ездил на велосипеде домой в Елатьму, ведь 18 верст можно проехать всего за полтора часа. Участковый полицейский надзиратель там был либеральный, и не особенно часто проверял квартиру брата, только просил его не подводить, то есть в Елатьме не попадаться, все делать аккуратно. Брат обыкновенно являлся ночью между двенадцатью и двумя часами, стучал в окно с улицы, или проходил задами, так как рядом был пустырь с низким забором с площади. Велосипед он оставлял у знакомого бакенщика в конце города.
Елатьма. Гимназист на велосипеде.
Спали мы с ним на полу на толстом войлоке у окна в столовой. Окно выходило в соседний двор к Порошиным. С ними мы жили дружно, а там через смежные сады можно было спокойно уйти на целый квартал за пределы досягаемости. И однажды ночью нагрянула полиция, стала стучать в окна с улицы, но чтобы привязать спущенную с цепи собаку и отпереть ворота, потребовалось столько времени, что брат успел собраться, уйти через окно и умчаться на велосипеде на территорию Рязанской губернии, пока полиция осматривала комнаты, чердак, подполье, сушила, все строения двора и даже беседку в саду. Час спустя, видя всю тщетность поиска, Бакулин стал приставать ко мне с расспросами о том, почему я сплю на полу, а не на кровати, да еще с двумя подушками, на что я ему ответил: – Вот этого ты мне не закажешь. Сплю где хочу и как хочу. У нас стояло две кровати в мужской комнате. На них спали Борис и отец, а в женской – три, где спали мать и сестры. Но в мужской комнате было место и для моей кровати. А на второй вопрос, почему я сплю на двух подушках, я ответил: – Другой подушкой сверху голову накрываю, чтобы комары и мухи в ухо не лезли. Так ночные «гости» и ушли ни с чем.
* *
* В конце октября 1906 года в возрасте 45 лет умерла мама. В ноябре возобновились занятия в университетах. Автономия была восстановлена, и старший брат перешел в сельскохозяйственный институт в Перовском-Разумовском под Москвой (теперь Тимирязевская академия, ректор Тимирязев был очень либеральным человеком). Брат Борис поступил на историко-филологический факультет на отделение геологии и географии. С 1906 года у нас в Елатомской женской гимназии открылись пятый и шестой классы. Приехало много гимназисток из уезда и соседних городов, где не было женских гимназий – из Меленок, Кадома, Темникова и из большого села Сасово. Под женскую гимназию сначала заняли здание сзади мужской гимназии, большой дом Сорокина (Прим. ред.: Здание для женской гимназии возле пруда построили несколькими годами позже). Сады гимназий сходились, и гимназисты в большие перемены перелезали через забор и ходили гулять к гимназисткам. Жизнь гимназистов стала веселей. Часто устраивали вокально-литературные вечера, даже ставили спектакли. Для участия в вечерах к нам в гимназию под начальством своих наставниц приходили гимназистки, выступали с сольными пением, декламацией, а после, конечно, устраивались танцы наверху в актовом зале, где пол был гладко натерт воском. Там красиво вальсировали под звуки оркестра, исполнявшего «На сопках Манчжурии», «Над волнами», «Березка», «Ожидание», «Амурские волны». Гимназистки участвовали и в наших спектаклях, исполняя женские роли. Поставлены были «Шутники» Островского с массовой сценой у Сухаревой башни, «Бедность не порок» и несколько водевилей. Конечно, дело не обходилось без романов. Гимназисты отвлеклись от революционного движения и даже от учебы. На вечерах, когда играли в почту, то писались любовные записочки. На катке стали кататься парочками. Среди гимназистов стали появляться гектографированные ученические журналы, один из которых назывался «Луч». Он осуждал гимназистов за бездельничанье, увлечение танцами и ухаживанием за гимназистками, давал практические вопросы по физике, геометрии и разбор произведений классиков для будущих сочинений, призывал восстановить литературные кружки. Объемистый, страничек сорок с картинками, выходил он один раз в месяц. Например, с изумительным сходством был изображен какой-нибудь гимназист-«фат», танцующий с увлечением в паре с такой же гимназисткой, а сзади них – танцующие двойки, или гимназист, стоящий на коленях в теплушке на катке и привертывающий коньки какой-нибудь гимназистке, а она сидит на лавочке с самодовольной улыбкой. Выпускался он номеров шесть – семь, пока гимназическое начальство не стало его преследовать и наказывать за чтение. Того, у кого он отбирался, отправляли в карцер и снижали отметку по поведению. Выходил и другой журнал «Первые шаги», который открыто говорил, что увлечение романами есть измена тем стремлениям, какими были увлечены гимназисты в 1904 и 1905 годах, печатали революционные песни и призывали создавать революционные кружки. Помещались там статьи политического характера и краткие сведения о политической экономии. Журнал советовал читать такие книги, как «Экономические очерки», «Прибавочная стоимость», «Гнет машины», «Хитрая механика», а также о восстании броненосца «Потемкин», о Московском декабрьском вооруженном восстании, о разгоне первой Государственной думы и о причинах, побудивших царское правительство сделать это. Он выходил до нового года регулярно каждую неделю, и сообщал все политические новости, разъясняя их смысл. Разузнав об авторах и издателях журнала, гимназическое начальство исключило десять учеников, предложило им взять документы и добровольно уйти из гимназии. Их выдал Мишка Маккавеев, ставший, как мы узнали впоследствии, провокатором.
* *
* Несколько лет уже существовал для приезжих гимназистов интернат – общежитие с питанием за 20 рублей в месяц. В помощь и для наблюдения за гимназистами работали два надзирателя, которые помогали слабым ученикам при подготовке уроков. Режим был казарменный – без отпускного билета выход был запрещен, вход в общежитие посторонним гимназистам не разрешался. Когда выходили гулять, то организованной группой с надзирателем. Был один надзиратель Николай Апполонович Гиляревский, по прозвищу «Морковка», так как он был очень рыжим, огненного цвета и румяным. И вот при нем-то однажды случилась беда. Гимназисты общежития пошли кататься на льду ближайшего замерзшего пруда возле больницы. Катаясь, устроили свалку «куча мала», лед проломился, и один гимназист, Бабенков, ученик четвертого класса, провалился под лед и стал тонуть. Пока остальные выскакивали, ломая лед, он не смог вынырнуть и утонул. Его достали баграми за шинель, и, вытащив на берег, откачивали, но в чувство так и не привели... Потом все гимназисты хоронили его на городском кладбище, отпевание прошло в гимназической церкви. «Морковку» уволили, родители погибшего отказались привлекать его к суду, и он ушел преподавателем в городское училище (вроде основной общеобразовательной школы). Другой надзиратель, математик, был хорошим воспитателем.
* *
* Гимназистки стали тоже организовывать кружки. Среди них были развитые девушки: Черенкова, Лощинина Люба, Дуня Виноградова, Архангельская, Алексеева Маня (Мухина) даже были в революционных кружках.
Ученица Елатомской женской гимназии Лощинина Люба
Часто весной гимназисты устраивали массовки, ездили на лодках на другую сторону Оки и пели там революционные песни, и с ними ездили гимназистки шестого класса с музыкальными инструментами. Виктор Бакулин, новый квартальный надзиратель, пробовал, было, поухаживать за Черенковой, Лощининой и Виноградовой, но они его «отшили» не разговаривая с ним и не отвечая на его поклоны. Везде, где он появлялся, гимназисты прекращали разговоры, и, как он не старался заводить их с бывшими товарищами, у него не выходило. А гимназистки ему отвечали: – Займитесь с молодыми кухарками и горничными, а не гимназистками. Советовали компанию себе держать среди недалеких хлыщей из мясных лавок. Вообще, ему был объявлен бойкот. Тем временем, листовки появлялись только Нижегородского комитета РСДРП, у нас на гектографах их уже не печатали, поскольку было малое количество кружковцев и вообще, гимназисты увлеклись «романами» и спектаклями. Инспектор Горбунков торжествовал, что гимназисты поумнели, и стал нажимать на дисциплину, ловить гимназистов после семи часов вечера на улице, переодетых в штатское, заглядывать на квартиры и даже к родителям вместе со «Штыком». К нам он заходить боялся, так как отец уже третий год избирался председателем родительского комитета, и у нас по-прежнему бывали мои товарищи-одноклассники. Читали произведения Чернышевского, Рылеева, Бакунина и, зачастую, революционные брошюры. В отместку за грубое и придирчивое отношение к гимназистам «золоташки по найму» стали частенько бить стекла в окнах квартиры Горбунова, инспектора гимназии. «Золоташки», вооруженные камнями и железками, с противоположной стороны, из большого сада с точным прицелом выбивали четыре-пять стекол, больше всего между двумя и четырьмя часами ночи, а особенно осенью в темные ночи. Иногда стекла били на заре, одним словом, дело исполнялось аккуратно осенью и всю зиму 1906 и весной 1907 года. Горбунов вынужден был вставить ставни изнутри, но это не помогало, звон стекла все равно раздавался и действовал на него. Полиция старалась уловить злоумышленников, поставив около его квартиры пост полицейского, но они выбегали уже поздно, когда исполнители были за пределами досягаемости.
* *
* Наступило время учебы. В 1907 году я был в шестом классе. Среди гимназистов стало еще больше развиваться увлечение «романами» и флиртом, но было и немалое количество интересовавшихся политикой. На массовках весной 1907 года даже читались революционные брошюры. Анархисты, их была группа, организовала 16 ноября 1907 года покушение на жизнь воинского начальника (Прим. ред.: Подполковника Короленко) за то, что он зверски обращался с солдатами. Один гимназист, Птицын, стрелял в него из револьвера три раза, но на нем была сетка-панцирь для предохранения под мундиром, и только легко ранил его. Для покушения было выбрано неудобное место недалеко от квартиры исправника, где был пост городового. Гимназиста сразу сцапала полиция, и не только жестоко била, но и заковала в тюрьме в кандалы, что не должны были делать, так как это делалось с осужденными уголовными преступниками, а не с политическими заключенными, каковым он являлся.
Кандалы из елатомской тюрьмы (Прим. ред.: сохранилось сообщение от «С.Петербургского Телеграфного Агентства» 1907 г. в рубрике «Убийства, нападения, грабежи»: «ЕЛАТЬМА, 16.ХI. Гимназист 8-го класса местной гимназии стрелял на улице в 9 часов утра в воинского начальника, который неопасно ранен. Покушавшийся задержан городовыми».) Особенно бил Птицына «непутевый шпик» городовой Ганин, которого в отместку на посту у квартиры квартального надзирателя, где был пост полиции, ночью двумя выстрелами анархисты смертельно ранили в живот. («Город Елатьма... Грязные кривые улочки, нечастые фонари... И городовой Ефим Ганин, дежурящий на площади. Ночью мимо его будки прошли двое, но городовой особого внимания на них не обратил: в это время с танцевального вечера из мужской гимназии расходился народ. Часа через три он вдруг опять увидел их перед собой. Один выхватил револьвер и выстрелил несколько раз...») Полиция свирепствовала. Братья мои, студенты, были в Москве, сестра тоже в Москве училась на педагогических курсах, дома осталась старшая сестра вести хозяйство после смерти матери. Отец был постоянно в разъездах и у меня часто собирались кружковцы, мы читали легальную и нелегальную литературу. Я попросил отца выписать газету «Биржевые ведомости», а к ней в качестве приложений выходили допущенные общественной цензурой брошюры из истории революции в России, такие, как «Революционеры Юга», «Процесс 20-ти и 17-ти» (суд над членами «Народной воли» 1882 и 1883 гг.), «Нечаев», «Конституция Лорис-Меликова», «Троглодиты» «Демонстрация на Казанской площади» и другие. Но вдруг 28 декабря ко мне являются с обыском, хотя я учился в гимназии, исправник Тимофеев, Виктор Бакулин и человек десять городовых. Подозрительной литературы я, по совету братьев, дома не держал, особенно на ночь. Явились с вечера часов в десять и всю ночь до утра, часов шесть, шарили везде, но ничего не нашли. Отца дома не было, он был в отъезде, сестра уехала к теткам в Шацк готовиться к сдаче экзамена на сельскую учительницу, а я был дома один. Я зорко следил, чтобы во время обыска мне не подбросили какие-нибудь прокламации, чтобы придраться, что нашли. Из кармана Виктора торчал подозрительный сверток, который он все время пытался потихоньку вытащить, поэтому за ним я следил особенно внимательно, потому что считал его способным на любую подлость. Видя, что ничего не получается, забрали, несмотря на мои протесты, брошюры, бывшие приложением к «Биржевым ведомостям», ведь они были допущены общественной цензурой, раз официально пересылаются почтой. Но не с пустыми же руками им было уходить. Взяли брошюру Андреева «Рассказы о семи повешенных», которая была издана товариществом «Знание» и была, между прочим, в городской библиотеке. Еще взяли письмо от сестры из Москвы, где она советует быть чистым и ждать частых гостей: «Ходи часто в баню, а то могут придти гости». Это показалось им подозрительным. Они спросили даже: – Что это значит? – Очень просто: советует чаще мыться. Так я угодил за решетку. Когда приехал отец, то он пришел ко мне в тюрьму на свидание и спросил о том, что нашли при обыске. Я сказал, что забрали книжки-приложения к «Биржевым ведомостям», которые он выписывал на свое имя. Он долго ходил в полицию и доказывал незаконность отбора литературы, допущенной общественной цензурой, но их так и не вернули. После отсидки месяца, я вскоре уехал в Шацк к теткам и стал готовиться к сдаче экзаменов на сельского учителя. Но, на мое несчастье (или счастье), мне не дали свидетельства о политической благонадежности, так как туда же был переведен из Елатьмы помощник исправника Мовило (наверное, не удобно было держать его в Елатьме, после избиения демонстрантами) и он хорошо знал всю нашу семью. Я сказал «к счастью», потому что после исключения из гимназии я поступил практикантом на волжский пароход, а потом – в речное училище. Так вот и проработал я на речном транспорте 47 лет.
И вот что скажу вам, «однополчане-одногимназники», вы учитесь там, где я учился полвека назад. Учитесь хорошо, соблюдайте дисциплину. То, что было у нас по отношению к инспектору Горбунову и другим учителям, было вызвано жестокостью царского режима при министре просвещения Л.А.Кассо.
* *
*
«Экспедиционная компания» – так мы прозвали себя, три друга – Коля, я и гимназист седьмого класса Сережа Смольянинов. Один из членов «экспедиционной компании», Коля, был сыном надзирателя гимназического общежития-интерната, исключенный из 6 класса гимназии за курение и дерзкое обращение с классными наставниками. Сережа Смольянинов был моим одноклассником. Через год он успешно закончил учебу в гимназии. Я же был исключен из 7 класса за участие в «литературном кружке». С освобождением реки ото льда «экспедиционная компания» начинала свои экскурсии на лодке, которая была небольшого размера и вмещала трех – четырех человек. Куплена она была Сережей, ремонтировали ее каждый год недели за две до открытия навигации. Был у нас и парус, которым пользовались при трудных подъемах против течения при попутном или боковом ветре. А поднимались мы до тридцати километров вверх до Сенина пчельника и Белыни, а вниз по течению спускались километров на пятнадцать – восемнадцать до Ласина и Ардабьева, часто бывали на другой стороне Оки. Спускались вниз по Оке до Иванчинской рощи, где весной гуляли гимназисты и гимназистки и где часто елатомская «интеллигенция» устраивали пикники. Мы не принимали в них участия, так как у нас были другие интересы.
Поповы на пикнике. Изображение восстановлено в 2009 г. Н.Зиновиным)
Лодку ставили у пристани под охрану пристанских матросов. Мы отправлялись в «экспедицию» по большей части вверх по Оке и, пристав к берегу, располагались на ночевку. Часто при свете костра Коля своим молоденьким тенорком пел романсы «Не искушай меня без нужды», «Выхожу один я на дорогу». Он был хорошим певчим в гимназическом хоре – альтом. Пели все «Нелюдимо наше море». Коля очень любил петь «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты...» и в это время воображал себе гимназисточку седьмого класса Шурочку Полянскую, хорошенькую блондиночку, к которой он был неравнодушен.
Ученица Елатомской женской гимназии Шура Полянская
Пока Коля пел, я варил в ведерке кашу или кипятил чай и тоже вспоминал другую гимназистку Шурку Алямскую, к которой тоже был неравнодушен.
Ученица Елатомской женской гимназии Шура Алямская
С Алямской Шурой я познакомился весной 1907 года. Мои товарищи по классу стали удивленно посматривать, что это, дескать, сделалось с парнем: был противник танцев, и вообще, не ухажер, а вдруг встречают меня на улице и в Соборном саду гуляющим «парочкой». Это действовала весна и молодость – мне было семнадцать лет, да и Шура была хорошенькой, много читала, с ней было о чем поговорить, хорошо плясала «казачка», но была зазнайка, любила, чтобы ей не перечили, а если она ошибалась, то не хотела в этом сознаться. Она мало обращала на меня внимания или по своей женской натуре делала вид, что равнодушна, или не знала, как отнестись к моему настойчивому ухаживанию и подаркам букетов роз, сирени и ландышей, которые я собирал для нее в Заповеди за рекой и майскими вечерами клал на подоконнике ее раскрытого окна, а сам с замиранием сердца уходил, боясь быть застигнутым на месте «преступления». Сережа, самый рассудительный парень их нас троих, критически и философски относился к «сердечным делам» товарищей. При свете костра он предпочитал проверять жерлицы и снимал с крючков объеденную наживку. Часто после ужина товарищи ездили покачаться на волнах проходившего мимо пассажирского парохода, а потом, вытащив лодку на берег, устраивались под ней на ночевку, подставив под борт скамейку. Получалась беседка из лодки, перевернутой вверх дном. Прибавив в костер сырых веток для дыма, чтобы отогнать надоедливых комаров и прижавшись друг к другу, мы засыпали крепким сном.
Все затончики, большие и малые ухабинки берегов на плесе вверх до Ватажки и вниз до Ласина были нам хорошо знакомы, во всех мы побывали и не раз ночевали. Совершали «кругосветку» по озерам за Окой, перетаскивая свою легкую лодку на плечах или перекатывая на катках через пойму. Иногда, по нашему с Колей настоянию и снисходительному согласию Сережи, мы подъезжали к кострам, у которых сидели компании гимназистов и гимназисток. Мы с Колей украдкой поглядывали на своих возлюбленных, а Сережа потом подтрунивал: «Вы, ребята, как лиса и виноград из басни Крылова, только облизываетесь». Но за это он получал по дружескому тумаку. Эх, хороши зори на Оке при тихой весенней погоде в мае или июне! Ими мы всегда наслаждались, разбудив друг друга на заре, да и комары свирепствовали на рассвете, не боясь слабого дыма прогоревшего костра. Волей или неволей приходилось вылезать из-под лодки, варить завтрак и начинать рыбную ловлю.
Коля, вместо утренней молитвы, всегда что-нибудь пел, затем все освежались умыванием, так как на лицах чернела копоть от костра и все пахли дымом. Мы часто брали с собой музыкальные инструменты. Коля играл на гитаре, я – на балалайке, а Сережа подыгрывал на губах, изображая контрабас. Когда река замерзала, а большого снега еще не было, мы катались на коньках на катке «Козиха». Иногда я и Коля катались со своими «симпатиями» попарно или в «цепи» с ними. Надо сказать, что Шурка Полянская очень хорошо каталась на коньках и всегда держалась на конце «цепи», а Коля в это время старался круче заводить цепь. Еще хорошо, красиво и ловко каталась Соня Колхобаева, одноклассница Шурки. Каток постоянно расчищали арестанты Елатомской тюрьмы, находившейся по другую сторону земляного моста через Козиху. Когда выпадал снег, мы открывали свою «экспедицию» на широких охотничьих лыжах за реку Оку или в ближайший лесок Клинок, где катались с крутых гор.
Елатьма. Семья Поповых собирается в
поход на лыжах.
Елатьма. Семья Поповых на лыжной
прогулке.
За рекой, просто бегая на лыжах по снегу, заходили в караулки к лесникам в Заповеди и Романове, это километров пятнадцать – восемнадцать от Елатьмы. Там, сварив из своих продуктов завтрак или обед, погревшись и подкрепившись, возвращались обратно. Шли по тем местам, где летом катались на лодке. Отыскав заброшенные летние избушки без крыши, отдыхали около них, а иногда – около стогов в лугах. Если был солнечный день, любовались, как красиво блестят и переливается разными огнями снежинки.
* *
* Шура Алямская хвалилась перед своими подружками тем, что я ухаживаю за ней и приношу ей букеты цветов. Когда это дошло до меня через третьих лиц, девчонки рассказали мальчишкам, а они – мне, то я сказал, что не надо хвастаться, но она с гордым презрением отреагировала на это замечание, и это была первая размолвка между нами, да, была и еще причина... На другой стороне площади, где стоял наш дом, жили Т. Мы были семейно знакомы. Там было три сестры, старшая из которых, Тамара, приветливая, положительная, красивая и умная брюнетка с большими карими глазами. Старший брат ее, кружковец, дружил с моими братьями, средний брат – мой друг Коля, с которым мы ездили в «экспедицию» – был моих лет. Вот с Тамарой-то я и подружился. Она готовилась сама сразу сдать за семь классов гимназии и поступить в восьмой класс, который должен был открыться в 1908 году. Отец ее был надзирателем и воспитателем в гимназическом общежитии. Между прочим, он был одним из лучших шахматистов города. Тамара знала про мое увлечение Шурой через Колю и очень жалела меня, что Шура так относится ко мне, и сама не заметила, как увлеклась мною... Позже, когда я уехал в речное училище в Нижний Новгород, мы с ней вели переписку. В нашей переписке чувствовалось что-то недоговоренное, хотя мы считались друзьями и не более. Я три года не мог побывать дома, а она отказалась приехать ко мне на Волгу покататься на пароходе, потому что считала зазорным ехать к молодому человеку и отказывалась под разными предлогами: то денег нет, то мать болеет, а ей, как старшей сестре хозяйничать по дому. Она окончила гимназию с правом на золотую медаль, а осенью увлеклась одним студентом и вышла за него замуж.
* *
* ВОЛГАРЬ
С малых лет, с семи или восьми, я мечтал стать речником. К нам ходил играть в преферанс с моими родителями капитан окского пассажирского парохода Смольянинов Иван Александрович. Он долго плавал на пароходе «Дедушка Крылов» пароходства наследников А.В.Качкова. Он хорошо запомнился мне, хотя прошло около полувека: среднего роста, широкоплечий, с черной бородой, карими глазами, несколько хрипловатым голосом, немного прихрамывавший на левую ногу. Я часто садился к нему на колени или рядом с ним на другой стул, потому что он меня просил: – Счастье ты, Федя, мне приносишь – когда ты сидишь рядом, мне всегда везет. И правда, он часто с плохих карт на руках прикупал и разыгрывал без ремиза. Во время сдачи, пока он не играл, рассказывал мне про пароход, как он устроен, отчего не тонет, хотя корпус у него железный, как хорошо плавать в широкий разлив и как плохо в мелководье, а особенно осенью в темные дождливые вечера и ночи. – Идешь, как в стену, – говорил он, – хоть глаз коли, и то не увидишь. Видя, что меня интересует речное плавание, он как-то раз принес мне в подарок сделанный им самим маленький деревянный буксирный пароход и еще две деревянные баржи. Пароход и баржи были сделаны просто: плоские выструганные доски, срезанные впереди треугольником, а сзади полукругом – это корпус парохода или баржи, а на них постройки – четырехугольные чурки-каютки, у парохода в середине круглая небольшая черная палочка-труба. Как на пароходе, так и на баржах – мачты. У парохода на корме три дуги одна ниже другой – это арки, чтобы буксир не ложился на палубу, а был в наклонном положении. Помню, присел я на корточки на пол, и, зацепив две баржи одну за другую гуськом за гвоздь возле трубы, как бы за гак, повез за суровую нитку по полу весь этот караван. Сколько радости было у меня, и я целыми днями таскал его по полу квартиры, перевозя с одного места на другое кубики, катушки, пустые спичечные коробки. Потом Иван Александрович рассказал мне, что означает красный и белый бакен, про береговую обстановку, перевальные столбы и сигнальные мачты глубин, что означают вывешенные на них доски и шары, и я сам, по его указанию, сделал их себе и расставлял на полу. Бакенами у меня служили половинки катушек. Я ходил с братьями кататься на лодке на Оку и все, о чем мне рассказывал Иван Александрович, видел настоящее, в действительности. Помню, как-то раз заходил на пароход провожать сестру, уезжавшую до Рязани учиться в гимназию в Тамбов. Каюты второго класса были внизу в корпусе. И, когда пароход стал давать отвальные гудки, я заревел, и, бывший тут, Иван Александрович подшутил надо мной: – Вот так будущий капитан! Ай-ай! Мне стало совестно и я больше не ревел, а только зажимал уши, так как гудок был резкий, тройной. Учась в гимназии, я несколько раз ездил с отцом на пароходе на две-три пристани, а раз весной – за сто километров до Мурома. Во время учения в старших классах гимназии я научился управлять лодкой и садился за руль, когда даже товарищи боялись волн и неплохо правил, помня наказ Ивана Александровича держать всегда вразрез волнам, а не ставить лодку к ним боком. В 1910 году меня потянуло на водный транспорт, и я поступил на волжский пароход практикантом. Числа 10 июня 1910 года я поехал на пароход в Нижний Новгород. Когда приехал, то пароход был на Каме, и я не мог дождаться его прихода. Но вот, наконец, пришел пароход, шедший в Рыбинск Он назывался «Харитина» пароходства М.К.Кашиной. Я предъявил капитану назначение практикантом, но он не захотел меня принять, так как место практиканта на пароходе оказалось занятым его пятнадцатилетним сыном, получавшим жалованье. Тогда я обратился к главному контролеру Подлипчуку Исидору Парфентьевичу и секретарю Лазареву Ивану Порфирьевичу, знавших моих братьев, они были линейными контролерами в этом пароходстве. Подлипчук и Лазарев позвали Десятого Егора Андреевича, или, как его звали, Егорку, и сказали, чтобы он беспрекословно меня принял, поскольку назначение подписано самим управляющим пароходством Карасевым Василием Ефграфовичем. И Егор, скрепя сердце, велел своему сыну освободить каюту. Это была от среднего пролета с левого борта вторая каюта, первая была касса, в ней помещался кассир Кучин Николай Иванович, хорошей души человек. Он называл меня «маляр», так кашинские служащие называли себя, потому что весной им приходилось самим красить пароход.
Для просмотра в более высоком качестве кликните по изображению
Тут же меня послали к весам, суть этой работы я не понимал, и записывал то, что записывал пристанский маркировщик. Перевешивалось подсолнечное масло, потому что подтекал бочонок. Записи сошлись у нас с маркировщиком, да ведь они были одинаковы. Тут я понял, что при перевозке груза есть две стороны – пароход, перевозящий груз и пристань, отправляющая принятый от кладчика груз. Потом меня послали принимать груз с берега. Мне никто не объяснил, что бывают разного вида документы. Когда квитанция при товаре идет, то идет сама квитанция и накладная, а иногда бывает одна только накладная. Когда было два документа, я оставлял себе один, а второй посылал с грузчиком, вот и напутал, грузовой помощник стал расписываться в ведомости, а среди документов, взятых им у боцмана, некоторых не оказалось, потому что они были у меня. За этот груз помощник Прокофьев Алексей Прокофьевич меня наругал, а боцман Куприянов Иван Степанович за меня заступился: «Ведь он первый день работает. Надо было тебе объяснить». Егорка тут же побежал к управляющему жаловаться, что я ничего не понимаю, и тот вызвал грузового помощника и старшего помощника Козлова Николая Александровича и, расспросив, как было дело, наругал Егорку. Потом устроил мне «экзамен»: – Зачем поставлен красный бакен? Зачем белый? Я ответил правильно, на что Егорка искренне удивился. – А зачем столбы с огнями на берегу поставлены? Может быть для того, чтобы, как на улицах, светлей было? Я снова ответил верно. Вот где учение Ивана Александровича Смольянинова пригодилось! Команда меня полюбила, так как я не доносил капитану, что видел и что слышал про него и кто его ругает, хотя он наказывал мне, но я этого не делал, так как кое-что соображал. Так начался мой первый трудовой день волгарем. Сколько было таких дней за сорок семь лет работы на речном транспорте...
Сейчас мне 66 лет, но я с благодарностью вспоминаю свои гимназические годы и свою первую любовь. Помните, что придет время, и ваши дети спросят вас: «А что вами сделано в молодости для пользы общества?». Мне не стыдно смотреть в глаза своим детям, а их у меня четверо, так как я был активным участником национализации пароходов на Волге и гражданской войны на Волге и Каме в составе Волжской военной флотилии.
Заволжье 1956 – 1957 г.г.
* *
*
Читайте далее:
(воспоминание о последней встрече
Вернуться на главную страничку
|